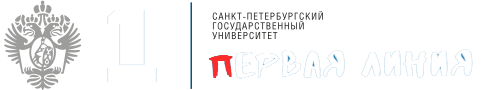«ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДОМА»
Полина ПОПОВА, 27 октября 2016
Гамбург − один из самых больших портовых городов в Европе. Немцы часто называют его «окном в мир». Именно отсюда в начале прошлого века отправлялись многочисленные корабли к берегам Америки. Сегодня Гамбург сохраняет за собой звание «окна в мир», только под «миром» мы понимаем не дальние страны, а саму Германию. Гамбург, как и многие другие немецкие города, за недавнее время стал одним из главных пунктов назначения для десятков тысяч беженцев с Востока.
«Refugees welcome » − гласит размашистая надпись, сделанная красной краской из распылителя, на стене одного из домов в гамбургском порту. Я прохожу мимо в поисках станции метро, чтобы выехать за черту города. Самые большие лагеря беженцев находятся именно там.

«Всегда нужно обниматься!»
Зона в районе станции «Харбург» в получасе езды от Гамбурга едва ли примечательна чем-то кроме строительных торговых центров. С моста над железнодорожными путями открывается вид на ровные прямоугольники крыш. Повсюду пестрят рекламные вывески. Согласно последним, здесь вы найдете все необходимое для обустройства своего жилища так, чтобы оно по праву могло называться домом.
Рядом с массивным торговым комплексом «Bauhaus», каждым рекламным плакатом спешащим напомнить о привлекательной скидке в 12 процентов для своих клиентов, находится кирпичное здание. Когда-то там тоже был магазин товаров для дома. Сейчас это помещение – пристанище для тех, кто был вынужден покинуть свой родной дом и искать спасения и крышу над головой в Германии.
Красное пятно, виднеющееся среди деревьев, приобретает форму креста, если подойти ближе. «Лагерь для беженцев» − гласит табличка у входа на территорию бывшего торгового комплекса. Приют для полутора тысяч человек был организован немецким «Красным Крестом».
С января 2016 года без малого 10 000 человек запросили убежища в Гамбурге. Город не был готов к такому наплыву. Для того чтобы приезжие не замерзли на улицах, их нужно было где-то размещать. Стали появляться самые различные лагеря: от палаточных поселений на площадях до переоборудованных супермаркетов.
Высокий забор и охранный пункт отделяют лагерь в Харбурге от внешнего мира.
− Беженцы доверяют нам и чувствуют себя здесь в безопасности, − признается Катарина, социальный работник. За забором – парковка, однако вместо машин теперь здесь рядами стоят биотуалеты и умывальники. Подле женщин, стирающих белье, играют дети.
− Би-бип! – мальчик лет десяти рассекает толпу на велосипеде и исчезает в широких дверях, что еще год назад были открыты для покупателей.
Внутри здания среди медных труб и громоздких вентиляционных конструкций под высоким потолком – лампы дневного света, окрашивающие огромное пространство в болезненно-холодные тона. Серые пластиковые загородки отделяют друг от друга пронумерованные отсеки. В каждую из небольших комнат помещается 12 человек. За ярко-синими подвесными дверями на кольцах, между пластиковых перегородок, заменяющих стены, – двухъярусные койки, кое-как нажитое имущество и… сотни людских судеб.
Несмотря на то, что на сегодняшний день в лагере занято лишь 600 мест, здесь кипит жизнь. Пока взрослые толпятся у столбов с розетками, дети играют в догонялки, прячась друг от друга за широкими мусорными баками. Их смех заполняет гигантское пространство, эхом отражаясь от стен. Перегородки между комнатами на уровне не выше одного метра от пола – в разводах от фломастеров.
Стены столовой, находящейся в этом же здании, по всему периметру обклеены детскими рисунками. Между ровных рядов с зелеными столами можно увидеть женщин в платках. Беженцы могут выполнять небольшую работу в лагере: к примеру, убираться на кухне. Плата: 1 евро в час.
Накинув на плечи розовый платок, Фаразан несет мешок с мусором в правой руке, спрятав левую под складкам своей шали. Она о чем-то незатейливо переговаривается с другими женщинами.
Сейчас проходит Рамадан, и многие мусульмане соблюдают специальную диету. «Если вам необходимо получить свой обед ночью, обратитесь за помощью к своему социальному работнику», − сообщает объявление на стене.
Катарина стоит у стойки ресепшн. Здесь каждый из беженцев может получить необходимую информацию и хоть и незначительную, но все же помощь. На груди у нее значок Красного Креста. Вокруг – дети. Она болтает с ними по-немецки, отмечая, как быстро они учатся.
При лагере есть детский сад. Занятия в нем проводятся только на немецком языке. В торговую зону также заезжает автобус, чтобы забрать детей постарше в школу. Там они обучаются вместе с немецкими школьниками.
− Ну и, конечно, же, обниматься! Всегда нужно обниматься! – улыбается Катарина, окруженная детьми. – У меня отличная работа!
«Меня продали поздно: в 16 лет»
По обе стороны узкого коридора с оранжево-зелеными стенами на втором этаже бывшего торгового комплекса находятся комнаты для разговоров с социальными работниками, а также помещения для курсов по немецкому языку.
Фаразан несмело заходит в одно из них, поправляя розовый платок на шее. Она то и дело поглядывает на своего брата. Нурзан хоть и дал согласие на интервью, смотрит на меня недоверчиво. На стене рядом с дверью табличка «женский класс». Обычно здесь проходят занятия по немецкому языку. Это первый раз, когда Фаразан позволили зайти сюда. В тех местах, где ей пришлось жить, было не принято, чтобы девушки получали образование или хоть чему-то учились. Фарси – единственный язык, на котором она может говорить, единственное средство, чтобы передать свою историю.
Нурзан и Фаразан приехали из Афганистана. Точных дат своего рождения они не знают. Во время войны, не прекращавшейся на протяжении тридцати лет, людям было не до того, чтобы фиксировать дни рождения детей. Наверняка известно лишь то, что Фаразан примерно ровесница войны. Сейчас ей 30 лет, и она старше своего брата на 4 года. Однако он все равно остается главным в семье.
− Моя сестра действительно хотела получить этот разговор, − говорит он на ломаном английском. – Я переведу то, что она говорит.
Однако Фаразан говорит совсем немного. За обоих отвечает брат. Путая времена и местоимения, он начинает рассказывать свою историю.
− В Афганистане я работал полицейским и меня уважали… Хотя далеко не все, конечно. Я сотрудничал с НАТО, и приходилось носить их форму. Люди на улицах порой показывали на меня пальцем: «Христианин! Христианин!» На самом деле я мусульманин, такой же, как и все, и то, что я делал, было лишь работой.
Несмотря на то, что в комнате, где мы сидим, довольно душно, он не спешит расстегивать свою кожаную куртку. Его руки скрещены на груди. Когда я спрашиваю, было ли такое притеснение единственной причиной для того, чтобы уехать в Германию, он ослабляет красно-зеленый шарф, туго обмотанный вокруг шеи, и поднимает на меня глаза.
− Нет. Мне удалось посадить в тюрьму одного местного талиба. Он выбрался оттуда и начал мстить. Одно письмо с угрозами, другое… Я понимал, что они найдут меня, рано или поздно найдут. Но они нашли не меня. Отец... – он говорит отрывисто, сильный акцент мешает мне понимать.
– Может быть, позовем переводчика? – наконец спрашиваю я.
– Нет, нет! Я хочу говорить сам. Так вот… Мой отец. Талибы убили моего отца. Я был бы следующим, если бы не уехал… Сначала перебрался в Швецию, потом – в Германию. Это был долгий путь. Я здесь с 2013 года.
– Ваша сестра ехала с вами?
Фаразан говорит на фарси, Нурзан переводит.
– Она ехала по-другому, через Пакистан.
– По той же причине, скрываясь от талибов?
Фаразан говорит много и эмоционально. Сквозь хрипоту голоса слышится ком, стоящий у нее в горле. Она довольно громко говорит отрывистыми фразами. Ее руки все время заняты платком. Она то надевает его на голову, то вновь спускает на плечи. В какой-то момент она закатывает рукав и показывает левую руку, на которой нет живого места от ожогов.
– У нее были проблемы с семьей ее мужа, – переводит Нурзан.
– А что случилось с рукой?
– Это сделали они. Они обожгли ее.
Фаразан что-то говорит брату. Она понимает, что он переводит далеко не все. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Брат соглашается пригласить переводчика.
Пять минут спустя, вместе с переводчиком, одним из социальных работников «Красного Креста» в комнату с шумом заходят дети. Дочкам Фаразан 4, 6 и 9 лет. При виде меня они замолкают и послушно садятся за стол возле матери.
− Меня продали поздно: в 16 лет, − социальный работник переводит слова Фаразан, − имеется в виду, выдали замуж. Семье нужны были деньги, а продажа невесты дает хороший доход. Меня отправили в другой регион в новую семью.
− Что было не так с этой семьей?
− Талибы. У них были связи с талибами. И жили так, как предписывали они. Понимаете, в Афганистане везде разные традиции и все, что было там, откуда семья моего мужа, было мне чуждо. Все, что они сделали со мной, было против моей воли.
− Что они сделали?
Хватаясь руками за живот, Фаразан говорит. На ее глазах показываются слезы, которые она поспешно прячет за платком, надевая его на голову. Сквозь всхлипы она повторяет одни и те же фразы.
− Женское обрезание. В 25 лет. Это сделали сестры мужа. Я кричала и звала на помощь, но тогда никто не услышал.
Взяв паузу, она продолжила свой рассказ.
− Когда они захотели сделать это с моими дочерями, я не позволила! Они говорили, что у меня нет права распоряжаться судьбами моих детей. Но я не давала им приближаться к девочкам, − Фаразан вновь показывает обожженную руку, − они, сестры мужа, вылили на меня кипящее масло.
− Ваш муж знал об этой ситуации?
− Нет… Талибы подсадили его на наркотики. Сейчас он тоже здесь со мной и детьми, он выбрался оттуда, но у него глубокая депрессия. Здесь ему помогают врачи.
− Когда же вы решили бежать?
− Последней каплей стал тот момент, когда они хотели обвенчать мою старшую дочь с одним из талибов. Тогда ей было 8 лет. Ей говорили: «У тебя теперь есть жених!», и я плакала. Она спрашивала у меня: «А что такое жених?», и я плакала еще больше. Я забрала детей, и мы бежали.
Из-под стола торчит только хвостик, завязанный у младшей дочери Фаразан на макушке. Мать пригрозила им, и дети вновь сели за стол, с любопытством поглядывая на меня.
Девятилетняя девочка смотрит на меня большими глазами из-под пышных ресниц. Я спрашиваю у нее, как дела, она отвечает по-немецки, что все хорошо.
− В школе мне нравится. А еще тут нет талибов, − неожиданно серьезно говорит она.

«Сколько бомбежек нужно пережить, чтобы все признали, что твоя жизнь в опасности?»
Какова дальнейшая судьба этой семьи? Ни социальные работники, ни Фаразан, ни Нурзан не могут этого сказать.
Беженцы, прибывающие в Германию, делятся на три категории. Группу «А» составляют сирийцы, курды и христиане из Ирана и Ирака. Они, несомненно, могут остаться здесь. Вид на жительство приходится ждать от двух месяцев до года. Не больше. В группе «B» − беженцы из балканских стран. Их незамедлительно отправляют домой. Все остальные, включая беженцев из Афганистана, входят в группу «C». Срок ожидания вида на жительство – минимум год, однако практика показывает, что этот процесс затягивается на годы.
− Я в Германии с 2013-го, но до сих пор не получил возможности ходить на языковые курсы, − рассказывает Нурзан, демонстрируя мне мозоль на пальце от письма, − я учусь сам по книге, пишу очень много, но сами понимаете, как это сложно. Лампы в нашем лагере выключают в 10 часов вечера. После этого уже не почитаешь. Курсов в Гамбурге много, почти что при каждом центре интеграции. Но дело в том, что сирийцы повсюду в приоритете. Нам, беженцам из Афганистана говорят, что мы не в такой опасной ситуации, как они, что в нашей стране еще можно жить. Но, как вы видите, у моей семьи такой возможности не было.
Нурзан и его семья возвращаются обратно в свою комнату, которую они делят с шестью другими людьми.
− Спасибо, что вы пришли, − говорит Фаразан. Следующую фразу социальный работник переводит как «мы вас любим».
Сейчас самый разгар дня, и в коридорах между комнатами шумно. Внутри очень душно, и я спешу выйти на воздух. На одном из соседних торговых комплексов я вижу ярко-желтые буквы очередного рекламного слогана: «Die eigene Geschichte», что значит «Ваша история».
Разговорившись с Эмили, девушкой из Красного Креста, я спрашиваю о том, что же будет дальше с такими, как Фаразан и ее семья.
− Афганцы будто бы в ловушке здесь. Их не оформляют в Германии, а пути назад уже нет. Сирийцам, конечно, проще, если, конечно, можно так сказать. Но ведь у каждой семьи, вне зависимости от того, откуда они, своя история, и каждая из них далеко не из простых. Где та мера, согласно которой мы определяем, в опасности человек или нет? Сколько бомбежек нужно пережить, чтобы все признали, что твоя жизнь в опасности? Наше правительство по этому поводу пока что молчит. – Эмили докуривает сигарету и извиняется, что ей нужно вернуться в лагерь.
ФОТО: Raquel ZALDIVAR
Пока без комментариев