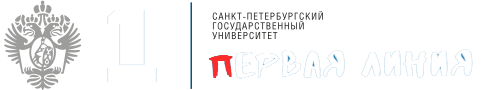ЛЕЧЕНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ
Юлия ШАБУРИНА, фото Владимира РЕМИЗОНОВА, 12 февраля 2015
Хрупкое телосложение, выразительная улыбка и отчаянный взгляд – признаюсь, я всегда знала, что клоуны в обычной жизни выглядят именно так. Они снимают красный нос и желтые ботинки, но продолжают широко улыбаться и активно жестикулировать. Моя собеседница Дарья Зарина – самый настоящий клоун.
Мы сидим на маленькой кухне небольшой квартирки в одном из спальных районов Петербурга и пьем зеленый чай с ярким ароматом непонятного мне букета приправ из смешных китайских чашечек – что ж, вполне в клоунском духе. И Дарья рассказывает мне о том, как выбрала такой нелегкий жизненный путь. Ведь выступает она не на цирковой арене для зрителей, отдавших несколько сотен за билет и жующих сладкую вату. Дарья – больничный клоун, ее сцена – небольшая палата с белыми стенами и железными кроватями. Ее зрители – тяжело больные, порой неизлечимые, дети.
«Ну что, задавай свои стопицот вопросов», – бойко начинает моя собеседница, улыбаясь не только ртом, но и глазами и даже, кажется ушами. А я теряюсь. Все те вопросы, которые хотела задать, теперь мне кажутся глупыми и неинтересными. Но все же банально прошу Дарью рассказать о том, откуда взялась в ее жизни больничная клоунада.
«Знаешь, я всегда мечтала быть клоуном», – Дарья выпрямляет спину и устремляет взгляд куда-то сквозь меня. Очевидно, она неоднократно рассказывала эту историю, но каждый раз переживает ее заново. Многие мечтают о чем-нибудь, что идет вразрез с продиктованной обществом схемой нормальной жизни – в космос полететь или исследовать джунгли. А Дарья мечтала о клоунстве (клоунаде). Карьера клоуна никак не вписывалась в ее схему: красный диплом ФИНЭКа, работа в золотом партнере Microsoft, небольшой перерыв в карьере, связанный с рождением ребенка
«Только я тебя умоляю, не пиши: «У нее было все, карьера, офис, бизнес». Вот не надо всего этого», - попросит меня Дарья в конце беседы. «Все стабильно это пишут, в каждом интервью. Но все, что у меня тогда было – четкое осознание того, что я так больше не могу. Я не хочу карьеры, не хочу всего этого, а хочу, чтобы был глобальный смысл. И это была такая депрессия, такое отсутствие смысла жизни вообще, что, читая в очередной раз о том, что у меня было все, я просто демонически ржу. Да, было. Но было в глубоком кризисе».
И вот однажды, когда Дарья летела на самолете в Гренландию работать гидом, она увидела в журнале «Фома» статью о московском проекте «Больничные клоуны» (это был проект «Доктор-Клоун»).
«Это я потом узнала, что проекту уже 20 лет (проекту было от силы года 3, 20 лет насчитывает история больничной клоунады в мире, а точнее — в Америке), а тогда я прочитала об этом и это было, знаешь, аллилуйя в небе над Исландией. Ооо! Уау! Да, это оно! По прилету я наткнулась на них в сети. Но когда это были ребята из журнала, я думала: ну да, как-нибудь найду их. А тут они что-то репостили, кровь искали, и все, я сразу написала Косте Седову (создателю организации «Больничные клоуны» («Доктор-Клоун») в Москве – прим. авт.), мол, вот, хочу к вам учиться».
А Костя предложил Дарье открыть школу больничных клоунов в Питере. Да, школу. Здесь не все так просто – лекции, семинары, сессия.
«Пять лет назад мы брали всех минимально подвижных и живеньких людей. И четыре блока семинаров по пять дней учили базовым вещам, типа фокусов, шариков. Плюс немножко готовили психологически. Люди шли в основном по принципу: «А, давайте попробуем». Идейных типа меня было мало, И немногие остались с того времени. А так все шли с мыслями: «О, давайте тусанем, это классно, принесем нашу позитивную энергию детям». Потом, когда выяснялось, что это большой труд, люди, поработав совсем немножко, так или иначе отваливались.
Сейчас больничные клоуны ставят перед более серьезные задачи. Они уже не просто коридорные аниматоры, которых пустили поиграть с детьми. Они ходят и на уколы, и в предоперационную, и на выход из наркоза. Укрепилось понимание того, что клоун не может выйти три-пять раз и уйти, что он не волонтер, что это все-таки профессия.
«Когда мы с Костей только начали привозить это знание из Европ и говорить: «Ребята, это профессия, давайте за это платить», на нас все такие «Ааа! Как платить? В этой стране на онкологию денег не собрать, о чем вы?», Дарья машет руками и смеется. Теперь уже только ртом, немного отстраненно. И уже совершенно серьезно, но все же с улыбкой, продолжает: «Сейчас укрепляется идея того, что больничная клоунада – это профессия. Что это тяжело, что это выгорание, что нужно работать над собой, работать над реквизитом, над взаимоотношениями с персоналом. И бесплатно это делают некоторые фрики, но их единицы. Эта идея прорастает и я надеюсь, что еще пять лет – и мы дорастем все-таки до общемирового уровня и наша деятельность будет все-таки восприниматься как специальность».
Дарья долго рассказывала о том, как развивалось движение больничной клоунады в Петербурге, высмеивала факты лжи и воровства, откинувшие ее развитие далеко назад. Оказывается, в бочку такой добрейшей и позитивннейшей сферы деятельности тоже порой попадают ложки дегтя.
«В нашей организации власть захвалила довольно невменяемая тетка, которая всех рассорила, всем про всех врала. Она даже смогла меня уволить, хотя как уволить? Выгнать. Как можно уволить волонтера? Ну она меня выгнала, я так как-то посидела в офигении и сделала «Ленздравклоун»»,– смеясь, но не без гордости заявляет Дарья.
Сейчас в Питере две организации «Лнздравклоун»Просто разные больницы. Пересекаемся мы только иногда на каких-то больших праздниках, и друг другу не мешаем. Поле одно, но нам нечего делить совершенно. Во всей этой нехорошей истории с разделением виноват один конкретный человек – Лена Грушина. И нам сейчас не объединиться обратно, потому что столько наговорено друг другу, очень много амбиций. Одни – уже профессионалы, другие – волонтеры. Такой был сильный взрыв, что мы где-то рядом все крутимся, но не сливаемся, должно что-то большое случиться, чтобы мы снова стали одной организацией. Грызня закончена, никто ничто не делит, но и в объединении нет никакого смысла. Мысль об обмене тренингами есть, но конкуренция – это тоже не так плохо на самом деле. Никто не делал это ради конкуренции, что это был действительно катаклизм. Лена отбросила больничную клоунаду назад и это была большая гадость с ее стороны. Бывают такие ситуации. Кирпич на голову.
Но если бы ее сразу обезвредили… А пока почти два года выясняли, что произошло, уже слишком далеко разошлись. Отрезанную руку сразу можно пришить, а позже уже нет. Вот и у нас так, мы обзавелись своим корпоративным стилем, сильно разошлись дороги, хоть и постоянно ведутся какие-то разговоры.
В общем, в Питере есть две организации и в Москве две. А по факту их даже больше – в Томске есть своя организация и в некоторых других регионах.
Конкуренция оказалась неплоха, хоть мы ее и боялись. Мы избегаем ее в рамках одной больницы, мы просто распилили их. Пока конкуренции не было, все сидели на попе ровно. «Давайте сделаем сайт… дааа… было бы неплохо… классно…». А потом так оп-оп-оп, все за всеми – вперед, развиваться.
Это, наверное, моя ошибка, но мне пока интереснее вглубь идти, а не вширь. Я быстро отказалась от имперских амбиций, потому что мне самой интересно быть клоуном. И мне хватает моих десятерых человек для того чтобы был обмен, чтобы мы не тухли друг с другом, чтобы свои больницы крепко держали, чтобы в них всегда были клоуны, чтобы нам могли позвонить и сказать: «Знаете, съездите домой к тому-то, он совсем грустный от нас выписывался». Мне прикольно идти вглубь. Наверное, расширяться тоже нужно, но вот сейчас у меня такое процесс. Хватает людей, не давит конкуренция, и все нормально.
Как подготавливают клоунов? Как это выглядит вообще? Я на самом деле видела запись о проекте уже года два назад, посмотрела, и даже подумала о том, что тоже смогла бы участвовать. А потом испугалась, что нужно учиться и что все это так сложно и так замороченно.
Во-первых, проектов сейчас несколько, они все так или иначе начались с Кости Седова. Там мутная история, как это все пришло к нему. Мы много лет думали, что это какая-то его личная святость, но оказалось как-то все не очень. Да, он узнал о проекте, да, он начал. Но там столько разных вариантов рассказа этой истории различными людьми, что я сама раньше рассказывала ту светлую версию, о которой знала, а потом выяснилось, что там все не так совсем. Но он действительно первый. Украл, не украл; подставил, не подставил – он был первый. Его совершенно бешеная нереальная харизма затмевает все эти моменты. Он был первый и он был танк, он действительно двигает это дело за счет личной харизмы и полного отсутствия сомнений.
А пять лет назад брали всех минимально подвижных и живеньких людей. И четыре блока семинаров по пять дней учили таким базовым вещам, типа фокусов, шариков – какому-то минимально набору вещей. Плюс как-то готовили психологически немножко. Тогда это было ни о чем, никто этого не знал и люди шли такие «а, давайте попробуем». То есть идейных типа меня было мало, И немногие остались с того времени. А так все шли с мыслями : «О, давайте тусанем, это классно, принесем нашу позитивную энергию детям». Потом, когда выяснялось, что это большой труд, люди, поработав совсем немножко, так или иначе отваливались. Кроме самых профдеформированных. А сейчас с развитием этого всего дела, когда люди уже ездят стажироваться за границу и так далее, становится понятно, что надо более серьезно этим всем заниматься. Конечно, вводный блок семинаров есть. Пару раз по пять дней точно надо просто походить, посмотреть, как мы работаем, посмотреть видеоролики в нашими комментариями, фильмы какие-то. Выучить этот базовый набор фокусы-шарики. Этого просто ждут и тебе самому проще, когда перед тобой все делали фокусы и шарики, то, когда ты приходишь и делаешь то же самое. Образуется своего рода связующая ниточка.
Сейчас более серьезные задачи, мне кажется, ставят перед собой клоуны. М уже пять лет готовим и персонал, и пациентов. Уже ходим и на уколы, и в предоперационную, и на выход из наркоза. Мы уже не просто какие-то коридрные аниматоры, которых, так уж и быть, пустили поиграть с детьми. Мы потихоньку проникаем в персонал. Понятно, что у нас нету пока европейского уровня. Потому что в Европа – это много раз в неделю, это постоянные клоуны, без пропусков, это полноценная работа.
У нас все-таки пока это стык с волонтерством, даже у тех, кому платят. Но дорогой идем верной. Поэтому может быть обучение по срокам не сильно изменилось, но понимание того, что клоун не может выйти три-пять раз и уйти, что он не волонтер, что это все-таки профессия – оно начинает укрепляться, проникать в умы.
Когда мы с Костей только начали привозить это знание из Европ и говорить: «Ребята, это профессия, давайте за это платить», на нас все такие «Ааа! Как платить? В этой стране на онкологию денег не собрать, о чем вы?». Это была совершенно крамольная мысль даже среди наших, кому мы сами предлагали платить. Когда начали говорить о том, что пора перестраивать организацию, очень много людей выступало, говорило: «Нет! Я за это принципиально денег брать не буду!». Но сейчас укрепляется идея того, что это профессия. Что это тяжело, что это выгорание, что нужно работать над собой, работать над реквизтом, работать над тем, чтобы это было регулярно, над взаимоотношениями с персоналом. И бесплатно это делают некоторые фрики, но их единицы. Эта идея прорастает и я надеюсь, что еще пять лет – и мы дорастем все-таки до общемирового уровня и наша деятельность будет все-таки восприниматься как специальность. Не будет оплачиваться больницами естественно, но мы сами изменимся, изменится наше отношение. Когда мы станем понимать, на что, за что и как мы работаем, уже будет проще убедить в этом людей.
Сколько вас вообще сейчас?
В нашей организации 10 человек, но это в нашей, мы маленькие, питерские, независимые. А вообще, народу, больше.
То есть вас несколько организаций по Питеру?
В Питере, да, две. И в Москве две. И еще по стране множество филиалов этих двоих и других, независимых организаций с десяток. Здесь седовский есть филиал, это филиал большой московской организации. Она московская и в куче городов у нее есть маленькие филиалы. А еще есть моя. Там просто была долгая и непечатная история нашего разделения. Не то что ее нельзя напечатать, ее просто очень тяжело вменяемо рассказать. Сначала у нас была одна большая организация «Доктор Клоун», которую основал Костя, а я создавала ее филиал. Вот это было 5 лет назад. Потом там был вскрыт факт Костиного воровства и его попрели из московского «Доктора Клоуна», очень жестко, нехорошо и можно было сильно мягче это сделать. Я на этот момент вообще в Индонезии была – поэтому, ни сном, ни духом. Я вернулась, Костю уже уволили, был жуткий скандал. И он взял и создал новую организацию, она называется «Больничные клоуны», она на данный момент самая большая, профессиональная. В нашей же организации власть захвалила Лена Грушина, бывшая его правая рука и довольно невменяемая тетка, которая всех рассорила, всем про всех врала. Уже полтора года прошло, как мы ее сместили, а мы до сих пор вскрываем вещи, в которые мы на автомате поверили и теперь не знаем, откуда мы это знали, а теперь понимаем – опять Лена. То есть все у всех воровали, все всех подсиживал, но если Костин факт доказан, то все остальные нет. Лена даже смогла меня уволить, хотя как уволить? Выгнать. Как можно уволить волонтера? Ну она меня выгнала, я так как-то посидела в офигении и сделала Ленздравклоун. И так стало три организации. Но время все расставило по своим местам и тот самый питерский филиал «Доктора Клоуна», из которого меня турнули, несколько месяцев назад в полном составе перешел мою организацию, поэтому их две сейчас. И мы дружим. В Питере дружим. В Москве все еще идет какой-то большой холосрач между двумя большими организациями, а у нас тут в Питере просто общее поле?
То есть вы просто разделаете: кто, в какое время, куда? Или у вас просто разные больницы?
Просто разные больницы. Пересекаемся мы только иногда на каких-то больших праздниках, и друг другу не мешаем. Поле одно, но нам нечего делить совершенно. Во всей этой нехорошей истории с разделением виноват один конкретный человек – Лена Грушина. И нам сейчас не объединиться обратно, потому что столько наговорено друг другу, очень много амбиций. Одни – уже профессионалы, другие – волонтеры. Такой был сильный взрыв, что мы где-то рядом все крутимся, но не сливаемся, должно что-то большое случиться, чтобы мы снова стали одной организацией. Грызня закончена, никто ничто не делит, но и в объединении нет никакого смысла. Мысль об обмене тренингами есть, но конкуренция – это тоже не так плохо на самом деле. Никто не делал это ради конкуренции, что это был действительно катаклизм. Лена отбросила больничную клоунаду назад и это была большая гадость с ее стороны. Бывают такие ситуации. Кирпич на голову.
Но если бы ее сразу обезвредили… А пока почти два года выясняли, что произошло, уже слишком далеко разошлись. Отрезанную руку сразу можно пришить, а позже уже нет. Вот и у нас так, мы обзавелись своим корпоративным стилем, сильно разошлись дороги, хоть и постоянно ведутся какие-то разговоры.
В общем, в Питере есть две организации и в Москве две. А по факту их даже больше – в Томске есть своя организация и в некоторых других регионах.
Конкуренция оказалась неплоха, хоть мы ее и боялись. Мы избегаем ее в рамках одной больницы, мы просто распилили их. Пока конкуренции не было, все сидели на попе ровно. «Давайте сделаем сайт… дааа… было бы неплохо… классно…». А потом так оп-оп-оп, все за всеми – вперед, развиваться.
Это, наверное, моя ошибка, но мне пока интереснее вглубь идти, а не вширь. Я быстро отказалась от имперских амбиций, потому что мне самой интересно быть клоуном. И мне хватает моих десятерых человек для того чтобы был обмен, чтобы мы не тухли друг с другом, чтобы свои больницы крепко держали, чтобы в них всегда были клоуны, чтобы нам могли позвонить и сказать: «Знаете, съездите домой к тому-то, он совсем грустный от нас выписывался». Мне прикольно идти вглубь. Наверное, расширяться тоже нужно, но вот сейчас у меня такое процесс. Хватает людей, не давит конкуренция, и все нормально.
А насколько тяжело вообще было изначально прийти к такому ребенку? Как это происходит у клоунов новичков? Понятно, что психологическая подготовка имеется, но она же, наверное, не на таком серьезном уровне?
Психологическая подготовка никакая, по сути дела. И самое главное, что ей никто не верит. Ты когда людям говоришь, что будет, они не верят. Никакие первичные страхи не оправдываются. Вот ты сейчас сидишь и пытаешься представить, как ты придешь в больницу. Думаешь, что тебе будет страшно, ведь там больные дети. И у всех так. Страхи твои. А если он умрет? А если я привяжусь? А как я буду смотреть на его отрезанные ручки-ножки? Есть люди, которые, услышав, как будет выглядеть ребенок, просто не приходят на следующее занятие. Отрезанная ручка не страшнее отрезанной ручки у инвалида в метро, ты же не умираешь, когда он проезжает мимо тебя. Тебе его жалко, ты реагируешь, но это тебя не разрушает. Да, когда ребенок на прошлой неделе был с ручкой, а сейчас без ручки, ты реагируешь. Но нет этой глубокой реакции, чтобы ааа… и все, и плакать в подушку. Если уж ты пришла и работаешь, то именно то, чего ты боишься сейчас, тебя не травмирует. Будет шок, когда ты увидишь в первый раз, как раздувает детей на гормонах. (более корректно по отношению к детям надо описать деформации в болезни)К этому привыкаешь очень быстро. А вот к тому что он агрессивен на гормонах привыкаешь тяжело. Больной он – не больной, он агрессивный. И тяжело что-то с этим сделать.
Так что важны не те страхи, с которыми человек в больничную клоунаду приходит, а именно проблемы взаимодействия с такими детьми.
Но сложности в действительности есть, и это в частности профессиональное выгорание, с которым сейчас столкнулась я сама и пытаюсь справиться с помощью психологов из хосписа. Большое спасибо хоспису (СПб ГАУЗ «Хоспис (десткий)» – прим авт. ), когда у меня начались проблемы с выгоранием, когда я поняла, что больше не справляюсь на внутреннем ресурсе, они предоставили своих специалистов и сейчас со мной очень плодотворно работают.
А можно подробнее о выгорании?
Вообще, это такая штука, которой подвержены люди помогающих профессий. Когда ты отдаешь, отдаешь, отдаешь, отдаешь – и в конце концов у тебя ничего не остается. Только потухшие глаза и полная невозможность что-то делать. Этому подвержены волонтеры, медсестры, социальные работники, психологи. Все помогающие профессии. В Европе у каждого психолога обязательно должен быть свой психолог, для социальных работников провозят групповые тренинги. У нас такого нет, в России работает такое клише: помогаешь – помогай до конца.
Я, конечно, пропустила время, когда стоило обратиться к специалисту, я долго справлялась сама. Вроде бы я, такая умная и знающая, что такое психотерапия, стеснялась обратиться за помощью, хотя сама люблю посмеяться над теми, кто так делает.
Вообще, когда такая проблема касается волонтеров, они просто уходят. Выгорели – ушли. Средний срок службы волонтера – полтора года. На личном ресурсе можно протянуть полтора года. А у меня уже пять. И не раз в неделю, это реально моя жизнь. И вот, когда ты идешь на большее, чем готов, когда слишком открываешь себя, когда ты себя заставляешь отдавать, когда не перерабатываешь какие-то травмы – все это вместе ведет к выгоранию. Потому что просто всю дорогу отдаешь. И ничего не остается, только пустота и агрессия. И с этим просто нужно работать. Не доводить до критического состояния, а постоянно заниматься профилактикой. Насколько я понимаю нынешнее состояние отрасли, все-таки не так много опыта в стране по работе с выгоранием. Есть люди, которые работают с этим на высочайшем уровне, но их мало. К тому, что выгорающему человеку нужна помощь, общество тоже должно прийти. В общем, нужно не доводить, нужно знать, нужно предупреждать. И мало того что меня предупреждали, я сама предупреждала всех кого учила, и все равно попалась. Сапожник без сапог.
Есть методики, с помощью которых специалисты потихонечку выводят человека обратно и он снова оказывается в ресурсном состоянии. Хоспису спасибо! Это по сути дела было признание. Вообще меня всегда радуют своего рода признания со стороны официальной медицины. Раз, глав врач выйдет и скажет: «Ой, наконец-то вы пришли, мы вас так ждали». Одно дело – медсестра или родитель, и совсем другое – главврач, он признает твой труд, узнает тебя в лицо. И когда я пожаловалась в хосписе на выгорание, и меня стали лечить, поставили в ставку психолога, то есть выделили на мою реабилитацию часы хосписа, для меня это стало признанием. Да, это было приятно. И я рада, что получаю по-настоящему профессиональную помощь. Потому что если прийти к любому психологу, придется два месяца объяснять свою проблему и специфику хосписа. А тут психолог отлично понимает, в каких условиях я выгорела. Ну посмотрим, мы только начали. Пока я довольна, и меня прямо прет от самого словосочетания «паллиативная психотерапия». Всех людей где лечат? У обычных психологов. А меня где? А меня в хосписе. Потому что мне уже ничего не поможет (смеется), в общем, куча шуток на тему паллиативной психотерапии в последнее время.
А как вы вообще заходили в больницы? Встретили с распростертыми объятиями?
В Израиле, например, работа больничных клоунов строилась по-другому. У них существует собственный фонд, который предоставляет больнице клоуна и говорит: вот вам клоун, он будет приходит работать каждый день до двух часов. Оплачивать его не надо. Проходит год, жалоб никаких, все рады, и фонд объявляет больнице, что теперь она должна финансировать 25% его з/п, еще год – плюс еще 25. Через несколько лет клоун переходит на обеспечение больницы. И никто не отказался. Больница, поняв, насколько это нужно и важно, берет на себя все расходы по клоунов. У нас, естественно, такого долго не будет. У нас на лекарства-то деньги собирают.
Мы заходили по-другому. Нет, нас никто не гнал, никто не обижал. На тот момент уже волонтерство уже существовало. Если бы мы входили 15 лет назад, было бы по-другому. Но, когда мы начинали, волонтеры уже были, они постоянно толклись, что-то делали, рисовали, мультики показывали, спектакли привозили. Ну то есть эта культура прихождения и делания «чё-та», она уже была. Какая-то движуха начиналась. Соответственно, нас приняли без проблем. А потом мы просто прижились. Потому что приходили часто, раз в неделю, и со временем стало понятно, что мы делаем. В первую очередь, нам самим.
И что же это все-таки такое – работа больничного клоуна?
Диалог о нашей деятельности обычно бывает коротким:
- Чем занимаешься?
- Больничной клоунадой.
- А, представления в больнице?
- Нет.
Ну не можем же мы готовить новы спектакли каждую неделю, как идиоты (смеется). Это просто невозможно. Больничная клоунада – это другое.
Ну а что?
Вот почему диалог заканчивается обычно на этом моменте. Здесь я просто понимаю, что надо объяснить, что это такое и больше не могу. Это и не арт-терапия тоже, это ближе к арт-терапии, чем «ой, спектакли детям». Спектакли – это, конечно, хорошо. Но это не сильно отличается от того, что они смотрят фильм на айпаде. А арт-терапия, это все-таки терапия. Ты что-то создаешь сам и через этот образ прорабатываешь… Нет. Арт-терапию очень уважаю, это уже очень большое признанное развитое направление медицинское направление. А мы, мы где-то на стыке всего. Просто клоунада – она на стыке всего. Если так совсем просто объяснять, то больничная клоунада – это установление длительных отношений с детьми, которые находятся на длительном лечении, ведь ты каждую неделю можешь видеть человека годами, это уже отношения. Причем, отношения из образа клоуна, Не волонтера, которому жалко и он пришел с тобой порисовать. Такие все девочки хорошие. Нет, правда, они хорошие такие, типаж волонтера. А я нехорошая. Я троллю их из своего из клоунского образа. Да, клоун – это агрессивный образ. И лучшие клоуны – это мужики. Он шутит, он смеется, он издевается. Это шут. Это очень важный архетип и образ, но это агрессия. Очень многие дети боятся клоунов и не потому что они смотрели фильм «Оно». Он шутит, от него непонятно чего ждать, у него красный нос. И поэтому я троллю девочек-волонтеров, которые такие благостные несут добро. Главное, не расплескать.
Но у клоунов свои особенности. Мы общаемся со здоровой стороной ребенка. Он же не целиком болен, а вынужден все время находиться в этой атмосфере: тревожная мама, отстраненный врач (он тоже должен себя защищать, иначе как он будет лечить, он же выгорит до того как окончит интернатуру), суетящиеся медсестры, которых очень мало. И в этой тяжелой атмосфере появляешься ты и как бы всего этого не видишь. Такой дурачок, который не в курсе, что у ребенка химия или еще что-то. Ты – клоун в шорах – видишь только здоровую часть. Только с ней взаимодействуешь, причем часто очень жестко. Пошутить можем «нет ножек, нет конфет». Но здесь нужно точно знать ребенка, точно понимать, что говоришь. Это должно быть настолько выверенно, что не будешь шутить, пока до конца не поймешь, стоит ли. Эту грань дозволенной шутки ты, с опытом, с развитием отношений, постоянно отодвигаешь, отодвигаешь, отодвигаешь.
Срабатывает тот же механизм, что и в обществе. Ведь больница – это маленькое общество. Зачем шуты, зачем смех, зачем смеяться в такие моменты, когда все плохо. Ну вообще архетипические вещи очень сложно объяснять, потому что они выглядят такими высосанными из пальца. А? Что? Архетип? Классно загоняет.
Но больничная клоунада – это, как минимум импровизация, постоянная работа. Это не спектакли, это живое тело общения. Ребенка и персонажа, в котором все время нужно органично существовать, не заученной ролью, а реакциями и всем своим строем быть за гранью происходящего. Ты просто сидишь и не врубаешься, что здесь хоспис и все умрут. Идиот, да. А потом снимаешь нос и…. ааа, трое умерло на этой неделе… ааа…. Но в тот момент, когда ты работаешь, даже таких слов нет. Есть только жизнь и какие-то гипертрофированные реакции. В общем, сложно рассказывать об архетипах.
Здесь немного понятно. А как дети реагируют на ваше появление? Все безумно рады? Некоторые, наверное, боятся, не понимают.
Подавляющее большинство все-таки нам радо. Мне сложно вспомнить, как это было в начале, ведь в Песочку (НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова в пос. Песочный Ленинградской области – прим. авт. ) мы ходим уже пять лет, в хоспис – три года. Когда тебя знает большинство, новенький смотрит на реакцию остальных, и наступает этот момент, когда дети готовы играть, но они смотрят на взрослых и с тобой еще нет взаимодействия – реакция позитивная, но настороженная. И все равно, это скорее радушный прием. Сейчас, когда большинство детей тебя знает, и когда старшая медсестра кидается тебя обнимать, кто-то новенький, глядя на то, что происходит, подвергается общему влиянию.
Но есть дети, которые не принимают, боятся. Здесь есть варианты, как искать подход. Конечно, не надо ломиться. К кому-то можно подойти через игру, к кому-то – попробовать через несколько раз, к подросткам – чаще всего через фокусы. Но для некоторых детей просто очень важно кому-нибудь сказать «нет». Ты не можешь не пустить медсестру, которая приходит лить химию, не можешь выгнать маму, впихивающую в тебя еду, ты обязан поехать на операцию, если доктор отправил. А клоуна можешь не пустить, можешь сказать «нет». И часто одно это слово важнее, чем наши шутки. Лезть кому-то в душу ради статистики «мы поработали со всеми, все у нас посмеялись три раза, итого: десять знаков внимания со стороны принца» нам не нужно. Зачем? Про нас уже многие знают, даже обсуждают на конференциях врачей. Поэтому прием хороший.
Ты считаешь, что со временем можно полностью слиться с системой больницы?
Мы уже пустили корни, у нас есть гримерка и стоит шкаф (с гордостью). Но даже на спупермегагиперпрогрессивном Западе далеко не везде это так. Клоуны – не структурное подразделение больницы, не ее сотрудники. Они наемный персонал.
Как уборщицы от клининговых компаний?
Да, да, да. Это просто структура. И возможно, в этом есть большой смысл. Ведь если ты часть больницы, тобой могут руководить. Конечно, если врач что-то сказал не делать, ты этого не делаешь. Но он не будет тебя направлять как художественный руководитель. «А вот этому ребенку ручкой помаши, а вот этому песенку спой». Кстати, жутко мешает, когда соцработники пытаются это делать, говорят под руку. Это ломает всю импровизацию. Поэтому становиться структурным подразделением больницы нам не нужно. Как полковому священнику не надо быть рядовым. Я знаю, что в США есть больницы, где клоуны состоят в штате, но не представляю, как это может функционировать. У нас взаимодействие построено, есть люди, которые за тебя отвечают, есть соцработник, который тебя встречает. Ведь больничная клоунада – это действительно эффективная вещь, она набирает обороты, и приходят новые люди, об этом пишут. Мы будем развиваться и все прочнее занимать свои места в больницах, становиться привычным пейзажем. Но до того момента, когда мы станем частью штата сотрудников больницы, я, наверное, не доживу. А может, оно и не надо.
Больничная клоунада – это сейчас твой основной вид деятельности?
Сейчас основной. У меня была нормальная карьера. Только я тебя умоляю, не пиши: «У нее было все, карьера, офис, бизнес». Вот не надо всего этого. Потому что и про меня, и про Седова, это пишут стабильно. Мы просим так не делать, и все равно в каждом интервью встречаешь: «У нее было все…». Да, у меня красный диплом ФИНЭКа, я работала в золотом партнере Microsoft, у меня были майкрософтовские сертификаты. Но на тот момент, когда я встретила больничную клоунаду, у меня был маленький ребенок и перерыв с карьерой. Но все, что у меня тогда было – четкое осознание того, что я так больше не могу. Я не хочу карьеры, не хочу всего этого, а хочу, чтобы был глобальный смысл. И это была такая депрессия, такое отсутствие смысла жизни вообще, что, читая в очередной раз о том, что у меня было все, я просто демонически ржу. Да, было. Но было в глубоком кризисе. И больничная клоунада меня из этого кризиса вытащила. Я не как Данко, побежала помогать детям. В первую очередь, появление больничной клоунады помогло мне. Я действительно дошла до ручки, не могла жить, как все люди. Ты начинаешь заниматься как волонтер, и вдруг обретаешь действительно все: и идею, и смысл. Сейчас я дополнительно подрабатываю обычным клоуном и имею небольшую зарплату директора некоммерческой организации – на жизнь хватает. Вот так я и спаслась. Обрела смысл жизни. Не в том грандиозном смысле, Метроном Метатрон не спустился с небес и не возопил мне об этом. Смысл жизни – это же какая-то простая вещь, когда ты просто делаешь то, что действительно кому-то нужно. Не ради того чтобы купить новую машину, а чтобы видеть, как дети улыбаются. Тогда действительно понимаешь, что все это не просто так. То есть смысл жизни сильно меньше, чем написанный капс локом в красивой рамочке. Он проще и больше. Сначала ты понимаешь, зачем вообще выходить из дома, а потом раз – и появляется новая профессия, новый круг знакомств и новая жизнь.
И все-таки никак я не могу отвязаться от этого момента, как вы приходите к этим детям, они же умирают…
Они не умирают прямо при тебе! То есть вот этого (хватает себя за горло) эээ… и пошел умирать не бывает. Да, один момент все-таки у меня случился, но это возможно не чаще, чем увидеть умирающего человека на улице. Но ты же выходишь на улицу. Детям физически плохо. Им больно, им льют химию, им делают укол. Это тяжело видеть. Иногда ты приходишь и тебе говорят, что умер кто-то, с кем у тебя были доверительные отношения. Но это не самое сложное. Самое сложное все-таки – импровизация. И я на этом категорически настаиваю. Просто тяжело все время что-то выдать, построить само взаимодействие. Мне сложно объяснить это, ведь ты не из клоуна смотришь. А от того, что тебе страшно, как человеку, меня хранит маска клоуна. Да, оно все равно долетает, но не так, как если бы я пришла просто без носа посидела в холле той же Песочки, в которой работаю пять лет. Я уверена, что хватанула бы нормально стресса, просто потому что была бы не клоуном. И когда я зайду как я, будет тяжело это видеть. Я буду примерять на себя, на своего ребенка. И вечер с валерьянкой и вискарем мне обеспечен. Клоун ищет игру, и для этого обращается к здоровой части. Ну конечно, с ребенком без ножки или на каталке не стоит играть в догонялки. Здесь просто нужен позитивный подход. Постоянно спрашиваешь –а что он может? Если он видит, значит, мы ему что-то покажем. Постоянная деятельная попытка найти позитив, устроить хоть какую-то игру, какую-то движуху. И поэтому все эти болезненные вещи касаются нас за кулисами. В эти моменты, когда мы не успели сбежать, а нам сообщили, что кто-то умер.
И мой юмор, он сейчас совсем не такой, каким был в начале работы. Он менялся настолько постепенно, что я не могу взять с выделить событие после которого я вдруг начала шутить жестко. Если я пошучу сейчас одной из своих шуток, принятых в хосписе, а ты это напишешь и опубликуешь, меня, наверное, как ведьму сожгут на костре. Из разряда: «Сегодня пять человек умерло? Ну классно, меньше детей – меньше работы». Медсестра поржала, я поржала. Тебе сейчас неприятно, и любого нормального человека покоробит. А мне работать. С теми, кто не умер, кто остался. Им нужно поиграть. А моя психика тоже не железная. шутка защищает и меня и медсестру. Да, мы посмеялись. Но она всю ночь откачивала этих детей, а я с ними уже много лет взаимодействую. Мы не маньяки. Это защита. А посторонние люди, в особенности ближайшие друзья, чаще всего пугаются. Пошучу им что-нибудь на автомате, а они в шоке. Так я замечаю, что меня тоже деформирует.
Пока без комментариев