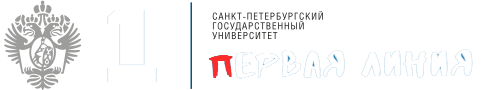«МЫ НЕ ПРОДАЕМ БЛАГОДАТЬ»
Беседовал Егор СМИРНОВ, 20 декабря 2017
Священник Алексей Скляров ответил корреспонденту "Первой линии" на часто задаваемые вопросы о жизни Русской православной церкви
О чем вы вспоминаете, когда слышите слово «церковь»? Видимо, вспоминаются купола, иконы «под Рублева» и бабушки в платочках. Скорее всего, память услужливо выдает и что-нибудь про Исаакиевский Собор или скандал вокруг «Матильды». И, конечно же, поп на дорогой иномарке – этакий лубочный образ, популярный в СМИ. Наш материал для тех, кому этих стереотипов недостаточно. О том, как человек приходит к священническому служению, почему церковь молодеет и чем сегодня живет православная община, расскажет протоиерей Алексей Скляров, благочинный Невского района Санкт-Петербурга.
– Отче, сначала самый банальный вопрос: как вы пришли в церковь?
– Если говорить канцелярским языком, я родился в «семье служащих». Родители получили техническое образование, прямого отношения к Церкви не имели. Покрестили меня в 13 лет вместе с племянницей. Не могу сказать, что тогда я испытывал какую-то особую веру, скорее, согласился просто из соображений «а почему нет?» Вроде как, все крещеные... Но после Таинства, буквально в этот же день, я понял, что действо, которое надо мной совершили, – не пустой обряд. Должно быть, это была милость Божья – не знаю, как иначе назвать это чувство. Тогда я решил, что нужно прийти в храм и во всем разобраться.
– Помню, вы как-то рассказывали, что в подростковые годы на даче не копали картошку, а читали Иоанна Златоуста…
– Да, это был тот самый период воцерковления. Все верующие проходят стадию неофитства, а если ты еще и подросток, то стремишься узнать как можно больше – меня поражала духовная глубина трудов Иоанна Златоуста. В те годы только-только стали выпускать первые книги на православную тематику, и я покупал абсолютно все, что мог себе позволить. Помню, у моей мамы был одноклассник, воцерковленный человек, он стал помогать мне на моем пути к вере. Через него я попал в общество верующей интеллигенции того времени. На Пасху мы ходили в Преображенский собор. А в квартире на Миллионной улице у знакомых собирались православные поэты, художники, писатели. Тогда мне было всего 14 лет.
– Как на это реагировали ваши сверстники?
– Нормально реагировали. В те годы многие смотрели в сторону Церкви, просто искали в ней разное. Я искал спасения, веры в Бога. А кто-то видел в ней разве что исторический институт, который не был уничтожен в советское время.
– Учителя не вызывали родителей «на ковер»?
– Когда учителя узнавали, что я верующий, относились ко мне с интересом. Был только один преподаватель философии, с которым мы часто спорили. Отличницы на меня шикали и жаловались, что я срываю урок, потому что мы с ним могли все занятие проговорить на какую-нибудь свою тему. Это было интересно. Он был человеком атеистических взглядов, но никогда не отказывался от разговора.
– И какая у вас была оценка по философии?
– Не помню. Наверное, пятерка. Наш философ не ставил двоек за то, что кто-то с ним согласен. Это достойно уважения.
– Вы долго колебались, прежде чем стать священником?
– Я не то что бы колебался, это были просто раздумья. Когда я шел в школу, зная, что сегодня Двунадесятый праздник, мне было как-то тяжело – душа звала в храм. Мне хотелось в этот день быть в церкви. А кто там может быть наверняка? Священник. Тогда у меня и появилась мысль о том, чтобы стать священником. Поэтому класса с 9 я стремился в семинарию, но по правилам поступать в нее можно было только с 18 лет. Куда девать эти два года? Я поступил в Богословский институт.
– Вам не было страшно на первых службах от того, что священнодействие находится в ваших руках?
– Конечно, когда тебя рукополагают, присутствует некий страх и трепет перед священнодействием. Но, к слову, есть история: однажды заходит опытный священник в алтарь и спрашивает у ставленника, который лишь недавно рукоположен: «Ну как ты, как служение?» «Ничего, привыкаю», – отвечает ему тот. «Вот то-то и плохо, привыкать к этому нельзя». Я всегда помнил эту притчу. Поэтому каждый раз, служа Божественную Литургию, я радуюсь, что Господь позволил мне снова быть тем, через кого совершается это таинство.
– Потом вас назначили на приход в Рыбацкое, где не было ровным счетом ничего. Не возникало отчаяния от того, что вам, еще молодому священнику, все нужно начинать с нуля?
– Ну что вы, какое отчаяние. Мне очень хотелось создать некую общину. Я не могу сказать, что у меня это получилось, но, думаю, мы до сих пор к этому идем. А тогда, в самом начале, я был очень благодарен Господу, что он дал мне возможность этим заниматься. Сам приход чисто юридически существовал здесь и раньше. Здесь уже были люди. Мы собирались на квартирах, в общественных местах (Рыбацкая библиотека, прим. ред.), на месте разрушенного храма… Стояли, молились, отмечали престольный праздник Покрова в октябре.
– И что получилось сделать за эти годы?
– Поначалу я и представить себе не мог, откуда достать средства на восстановление разрушенного храма. Но мы все верили, шли к этому. Нам и сейчас еще многое предстоит сделать: отремонтировать церковный дом, достроить храм. Но что-то у нас уже есть: свой приход, воскресная школа, занятия для взрослых. Социальные проекты вроде группы для детей с проблемами развития «Радость наша», где с воспитанниками занимается не просто квалифицированный специалист, но человек верующий, добрый. В прошлом году этот проект получил грант конкурса «Православная инициатива»

– А что можно сказать именно о православной молодежи? Она у нас вообще есть? А то в сознании многих людей церковь устойчиво ассоциируется с бабушками в платочках.
– Да, многие говорят, что церковь – это для пожилых. Пусть эти люди зайдут в воскресный день в среднестатистический храм в спальном районе… Пусть посмотрят, сколько молодых людей стоит. Я в сане 17 лет. За это время я своими глазами увидел, как помолодели приходы.
– Многие люди не идут и на исповедь под предлогом: «Ну а как я буду рассказывать свои грехи какому-то постороннему мужчине в смешной одежде?» Кому-то просто стыдно вслух говорить о своих проколах. Некоторые чувствуют трепет и не могут ничего сказать… А как в этот момент чувствует себя священник?
– Идя на исповедь, я чувствую точно такой же трепет, но этот трепет нужно испытывать не от того, что ты будешь что-то рассказывать такому же человеку, как ты сам, а от того, что в этот момент происходит нечто невероятное: если искренне каяться, грехи прощаются. Особенность православного пастырства предполагает, что священник является тем врачом, который подсказывает человеку верный путь, но ни в коем случае не судит. Исповедь с обеих сторон всегда испытание, и тем, кто страшится каяться в своих грехах, нужно понять: это страх перед человеком или перед Богом? Таинство покаяния совершается самим кающимся, никто не может сделать это за него. Даже если священник прочтет молитву над нераскаявшимся грешником, эти грехи никуда не уйдут. Это ведь не какая-то магия.
– Кстати, о грехах. Как понять, что грешно, а что нет? Да, у нас есть формальные заповеди, но ведь осознание греха порождается чувством стыда. Но что если я, допустим, назвал своего ближнего м*даком, но совершенно не чувствую раскаяния?
– Мы не идем на исповедь просто поговорить со священником о жизни (это можно сделать и после богослужения), мы идем каяться. И если я знаю, что формально я согрешил, но совершенно не чувствую стыда – об этом нужно сказать так же искренне, как об остальном. Не нужно врать ни себе, ни Богу. Потому что на исповеди можно обмануть только самого себя – и зачем тогда в принципе каяться? Как раз это делает невозможным ту ситуацию, о которой любят говорить люди нецерковные: «Ну, у вас христиан все хорошо – согрешил, покаялся, опять согрешил. Бог-то все простит» Нет, не простит. Раскаиваясь, человек отказывается от греха и больше его не совершает, а если совершает – это не покаяние, а человеческая немощь. Да, мы все немощные. В каждом болит душа, только мы ее не видим и, вроде как, нет ее – нечего лечить. Но ведь болит… И от своей собственной боли мы делаем больно своим ближним.
– Много раз слышал разговоры о налогах, которые храмы, вроде как, не платят. Почему это так, если в церковных лавках ведется торговля?
– Потому что, согласно законодательству, с пожертвований налоги не платятся. При этом если церковь что-то именно продает, она платит налоги так же, как все остальные. То есть, например, налоги не распространяются на духовную литературу и церковную утварь. Но если церковь займется книгоиздательством, то будет обязана платить налоги как любое предприятие. Также мы платим за свет и отопление в храме, за воду в церковном доме – от этого нас, никто не освобождает, как и от налогов за работников храма, ведь они, работая здесь, получают зарплату.
– Почему же в церковной лавке мы видим множество ценников, если это считается пожертвованием? И как быть тем, для кого они слишком высоки?
– Что касается свечек, записок и почему на них выставлены ценники: все это исключительно примерное указание размера пожертвования. Если ко мне придет кто-то и скажет: «Отец Алексей, нет возможности заплатить. Пожалуйста, возьмите записку, прочтите на проскомидии» – я возьму и прочту, и это ни для кого не секрет. И так со всем, не только с записками, но и со свечками, и с требами… Мы отпеваем и крестим, венчаем и соборуем. И не имеем права отказать людям, даже если им нечем заплатить, потому что тогда мы станем наемниками, а не служителями Божьими. В конце концов, мы не продаем благодать.
Но вернемся к ценам. Почему они все же выставлены? Почему нельзя просто положить свечи и пусть каждый берет, какую хочет, и оставляет столько денег, сколько считает нужным? Для себя ответ на этот вопрос я нашел в Греции. Мы ездили по монастырям и забрались очень высоко в горы, где нашли чудесную обитель с одним маленьким храмиком. В нем хранилась чудотворная икона. По греческой традиции, паломники подвешивают к ней на цепочки серебряные фигурки. Эти фигурки абсолютно свободно лежали перед иконой, их можно было просто взять. Рядом была только одна надпись: «Это не бесплатно!» – и написано это было по-русски. Видимо, все остальные понимали, что за эти серебряные фигурки нужно платить. Все, кроме русских. Хочу напомнить, что это монастырек где-то высоко в горах. Вот и ответ. Мы сами себя не уважаем, если даже в таком месте специально для нас оставляют послания. Но это уже вопросы намного серьезнее, чем цены на свечки.
Пока без комментариев